 Они жили в одном доме. На первом этаже — Лариса Киприановна Суходольская, врач-педиатр, квартира Галины Ивановны Ракитиной — повара городской больницы была этажом выше.
Они жили в одном доме. На первом этаже — Лариса Киприановна Суходольская, врач-педиатр, квартира Галины Ивановны Ракитиной — повара городской больницы была этажом выше.Несколько лет назад, после неизлечимой болезни, умер муж Галины Ивановны — инженер, полковник запаса, и почти тогда же полюбил другую женщину и оставил семью педагог Суходольский. Общее горе еще больше сблизило двух женщин, Разъехались взрослые дети, их письма из разных концов страны стали для матерей общей тревогой, радостью и болью.
Письма приходили разные. Сыновья Ракитины тревожились о здоровье Галины Ивановны, она всю жизнь работала на ногах у жаркой плиты, последние месяцы ее особенно беспокоили боли.
— Это серьезно, — определила Лариса Киприановна, осмотрев полные, еще по‑женски красивые ноги подруги и назвала по латыни какое‑то сложное заболевание. — Надо, Галочка, менять работу, тем более пора подумать о пенсии.
Дети тоже предлагали немедленно оставить работу и переезжать к кому‑нибудь из них. Мать долго перечитывала письма, видела гораздо большее, чем скупое сыновнее: «У нас полный порядок…». Потом, накинув шаль, опускалась с письмами этажом ниже. Лариса Киприановна выразительно читала вслух скупые строчки, радовалась вместе с подругой, растроганно шмыгала носиком, а на худом нервном лице ее за стеклами очков влажно поблескивали близорукие глаза.
— Мальчики правы, — соглашалась Галина Ивановна.
Но было совсем не просто оставить навсегда то, что составляло ее жизнь, пусть минувшую, но живую и яркую в памяти, как вчерашний день. Она жила этой памятью.
По-прежнему на исходе ночей она спешила на работу мимо спящего сада-яслей, казалось, наполненного кипящим звоном ребячьих голосов. В этом прекрасном детском оре она явственно различала голоса своих детей. Она шла мимо высоких дверей школы-десятилетки и видела, как бежали, хохоча и присвистывая, ее озорные мальчишки…
У городского сада чудным видением спешил навстречу молодой инженер Ракитин. Жаркими губами он обжигал ее руку и вкладывал в нее холодную майскую гроздь сирени. Она опускала тяжелые ресницы, пытаясь скрыть смущение, а Ракитин шел рядом, и она все чувствовала на себе его любящие глаза.
Иногда он поджидал ее у городского сада таким, каким был в год своей смерти. «Как живешь, любушка?» — спрашивал он. Она молчала, глотая слезы, он тоже молчал. На краю города он гладил ее волосы, говорил: «Иди к людям…» — уходил в степь под старые березы, где в лунном свете поблескивала на его пирамидке маленькая звезда из нержавеющей стали.
Суходольская тоже получала письма. В них ее сын роптал на обстоятельства: что‑то не складывалось в его жизни, сетовал на нехватку денег, неверность друзей. Лариса Киприановна понимала, что, вечно занятые разрешением собственных проблем, они вместе с мужем просмотрели то время, когда их единственный сын ловко научился лавировать между жестким рационализмом матери и эмоциональной неуравновешанной натурой отца. Жалея сына, жалея собственные ошибки, она слала в ответ денежные переводы.
Однажды, ожесточившись и уступив настойчивым требованиям Галины Ивановны, она оставила без внимания сыновние жалобы. Но через несколько дней Лариса Киприановна уже плакала над его очередным посланием с припиской в конце: «…Папа несравненно добрее».
За год до ухода на пенсию Лариса Киприановна оставила детскую клинику, где проработала много лет, и перешла на большую зарплату в психиатрическую больницу. Втайне она гордилась своей практичностью. От этого перехода во многом зависел размер ее будущей пенсии, именно потому она работала здесь с подчеркнутым желанием, не считаясь со временем, ни с кем не входя в контакт и никому особо не доверяя. Завидев ее легкую фигуру, безукоризненный халат и строгие глаза за холодными стеклами очков, больные смущались говорить о своем самочувствии и болячках.
К концу года в психиатрической больнице не возникло хлопот с проводами на пенсию нового работника. В прощальных словах не звучало особой сердечности. Что ж! Лариса Киприановна и не ожидала большего, зато не ошиблась, до копейки рассчитав максимальный размер своей пенсии.
— Впрочем, не ожидала, — сказала она Ракитиной, — в месткоме расчувствовались и выделили путевку в Сочи.
Суходольская собиралась в дорогу радостная и чуть растерянная: надо же, она — пенсионерка! Ну и что, она еще не стара, особых изменений в своем организме пока не находит. Она еще сможет работать, она вернется в детскую клинику, там ее непременно возьмут. Но это потом, потом… Ей уже грезились ласковые воды южного моря, скорбные крики чаек, органные голоса теплоходных сирен. Где‑то там, где не уставали цвести диковинные цветы, куда ехала Лариса Киприановна, лечился после внезапного инфаркта педагог Суходольский.
Они стояли рядом у каменной балюстрады перрона. Где‑то в ночи задерживался и спешил скорый поезд, и Галина Ивановна, нервничая, посматривала на часики. С вечера она замесила тесто, но каким будет тесто, если его не подмешать, если оно во время не примет в себя тепло человеческих рук.
— Ладно, не торопись, подруженька! Подумаешь, тесто! Ничего с твоими больными не сделается, — убежденно говорили Лариса Киприановна.
Она суетилась, шелестела модным плащом. В свете фонаря пламенели ее волосы, подкрашенные хной, темнели тонкие, чуть тронутые помадой губы.
— Мои фиалки на окнах не забывай и в почтовый ящик заглядывай.
Над перроном звенел майский ветер, он смешивал холодный аромат отцветающей сирени и крепкий запах креозота. Он путался в проводах контактных линий, в железе виадука, он смешивал мысли…
— Да, да, — говорила Галина Ивановна Суходольской. — Да, да, — говорила она себе и видела совсем другое, видела тот первый послевоенный май.
…С гулом, в вихре яблоневого цвета пролетали платформы с танками, им вслед длинным рыданием отозвались виадуки. Потом на носилках из дверей санитарного вагона с меловой надписью «Мы из Праги!» вынесли подполковника Ракитина. Она шла рядом с носилками. Звенел майский ветер, одуряюще пахла сирень, и к запекшимся обескровленным губам мужа прилип лепесток цветочной метели…
Но дрогнули и медленно поплыли веселые огни южного поезда. Поплыли музыка и голоса людей: вагоны почему‑то не спали. Из опущенных вагонных окон лился голос Георга Отса, встречный ветер трогал занавески, май лихорадил вагоны, — наверное, пассажирам не давали уснуть ожидание счастливых встреч и светлая тревога коротких ночей.
В открытом тамбуре, в свете, плыла Лариса Киприановна. Она махала картонкой с соломенной шляпой и долго видела сквозь прозрачную темноту бледное свечение фонаря и неподвижную фигуру Ракитиной. «Странная она сегодня, — подумала Суходольская, — странная и красивая… Далось ей это тесто!».
Галина Ивановна возвращалась с вокзала дежурным автобусом и думала о тесте.
…Тогда она нашла лишь несколько горстей двоенной муки и замесила его на старых дрожжах. Она не верила старым дрожжам и всю ночь не отходила от теста, как от постели больного сына. Галина Ивановна не была суеверной, но твердо верила, что хорошим хлеб делается только от чистых рук, когда зависть и расчет не темнят душу, когда на сердце нет ничего, кроме любви к тем, для кого жар печи рождает тот хлеб.
Тесто хорошо подошло, стало, как пух, тайно возилось в маленькой кастрюльке на печи и, приподняв крышку, нежно высвистывало.
Подполковник Ракитин впервые открыл глаза после изнуряющей ночи недельного беспамятства. Первым был не свет, мучительно резанувший истонченные болью глаза, не мысль, возникшая вместе со светом. Первым стал аромат такой изумительной силы, что неистовый голод вдруг наполнил яростью к жизни умирающее тело. В открытые окна ворвались пчелы, заметались в палате, завывая, как зашедшиеся в смертельном пике штурмовики.
Аромат не исчезал. Он густел, растекаясь в больничной тишине, без остатка вытесняя стойкий специфический запах лекарств и боли, наполняя палату домашним забытым духом сдобного хлеба. Заскрипели пружины, ожили безмолвные койки.
— Вот это да-а!
Ну и красота-а!
Галина Ивановна, статная и высокая, в коротком халатике, взятом напрокат у Ларисы Киприановны, стояла посреди палаты. Ее большие глаза испуганно метались вслед за разъяренными от сладкого дурмана пчелами, темные ресницы вздрагивали, и Ракитину казалось, что колебание от их тяжелых взмахов он чувствовал на своем лице.
Старинное фарфоровое блюдо горбилось на тумбочке крахмальным полотенцем. Под ним млели, лоснились и высовывали золотистые носики пирожки. От жара они выпустили алый земляничный сок, и прямо на него, обжигая лапки, садились пчелы, сердито взлетали и жестяно гремели крыльями.
Неизвестно, что помогло тогда жильцам двадцать первой «кладбищенской» (так называли ее за глаза) палаты. Пирожки? Их ели все, даже те, кто уже ничего не ел и только угасал медленно и безвозвратно. Или, быть может, их воскресило появление молодой красивой женщины из того мира, из которого они так или иначе уходили? Она пришла из жизни, звенящей за окнами трамваями, орущей городскими воробьями, пахнущей горячим асфальтом и типографской краской из газетных киосков. Она была самой жизнью, она дарила им жизнь, как мать.
…К возвращению Суходольской Галина Ивановна тоже стала пенсионеркой. По-будничному незаметно она подала заявление. И, наверное, потому оно было незаметным, что никто в больнице не мог представить колдовство и операционную чистоту ракитинской кухни без ее хозяйки.
Больные приходят и уходят. Ракитина знала многих из них, радовалась, когда, выздоравливая, они уходили, огорчалась, если кто‑нибудь возвращался снова. Больные тоже знали Галину Ивановну — «главврача» — как звали ее за глаза. Они под любым предлогом опускались на первый этаж, где за стеклянными дверьми легко сновала статная женщина в высоком поварском колпаке. Годы не могли отнять ее красоты, как не могли отнять блестящей черноты ее волос, собранных на белой высокой шее в тяжелый узел.
Ее «последний ужин» привычно звенел посудой в столовой, пах котлетами и компотом. Галина Ивановна в последний раз вымыла плиту, перестирала и развесила сушить полотенца. Нехотя догорал день. В столовой смолкли голоса, по коридору затихал стук больничных шлепанцев. Нянечки, перетаскав в мойку кастрюли, разбежались по домам. От чистоты кастрюль во многом зависит вкус пищи, и мытье кастрюль Ракитина не доверяла никому.
Сейчас их свалили в кучу, и они выглядели неприветливо, зачумленно. Казалось, после трудового дня кастрюли вздыхают, поводя закопченными боками.
Каждая их них служила, как умела, имела свой нрав и за долгую жизнь получила от повара свое имя. Например, самая солидная — трехведерная — называлась Ворчуньей. Когда в ней поспевали супы и борщи, кастрюля озабоченно ворчала. Вон ту, поменьше, в ее далекой юности забыли без воды на огне. Она покрылась несмываемым золотистым загаром, и с тех пор к ней прилипло имя Цыганка. Самую маленькую кастрюлю — для приготовления соусов и заправок — Ракитина просто называла Зинкой за ее вздорный и упрямый характер, как у соседки по дому продавщицы Зины.
Каждую кастрюлю Галина Ивановна вначале обезжиривала, потом чистила жесткой щеткой, натирала пастой и только тогда ставила ее под теплый обильный душ. После такой «бани» кастрюли одна за другой молодели, а их крутые бока вспыхивали как солнца.
Галина Ивановна со страхом смотрела, как выстраиваются по ранжиру на «чистой» полке кастрюли, чувствовала, как что‑то важное навсегда уходит из ее жизни: руки привычно и сноровисто приближали то, чего она вовсе не хотела.
Когда, наконец, в сияющей Зинке она увидела свое расстроенное лицо, Ракитина вдруг прыснула в передник: «Вот тебе и на! Почему у меня сегодня такое отвратительное настроение? Для чего дана пенсия человеку? Подлечиться… Вот и я лягу на операцию, выправлю ноженьки и снова затанцую возле плиты. Куда же мне от нее деться!».
Опять она шла через весь город. Где‑то за городом, над оробевшими полями, гремела далекая гроза. Пахло дождем, спешили редкие прохожие, и, наверное, от безмолвия рваных туч, несущихся над посветлевшими крышами, Ракитиной стало совсем не по себе.
Дома она, не раздеваясь, повалилась в кресло, и тотчас над дверью взвизгнул звонок. Лариса Киприановна стояла на пороге в импортном халатике из крикливой материи: по оранжевому полю катились переплетающиеся олимпийские кольца, за кольцами стремительно бежали мужчины-атлеты.
— Как проводы? — спросила Суходольская.
Южное солнце омолодило ее, а последняя встреча с мужем, непоправимо больным, умолявшим простить его, прочертила в уголках рта две резкие складки. Она не знала, как поступить ей и последние дни все что‑то взвешивала и решала для себя.
— Нормальные проводы, — ответила Галина Ивановна и устало, нога о ногу, сняла с отекших ступней туфли.
— Забыли, черти! — догадалась Суходольская. — Будь я на твоем месте… Они же обязаны!
— Никто ничего не обязан! — вдруг рассердилась Ракитина. — Сегодня трое тяжелых больных прибыли, не до меня им было.
Она посмотрела на окно. За стеклом непрерывным потоком падала вода. Лихорадило мертвенное свечение, и грохот обрушивающихся небес дробил мир.
— Слушай, — голос Ракитиной потеплел. — Перестань мучиться. Ты же ему простила. Садись и пиши. Пиши, наконец!
— И то правда, — оторопело согласилась Суходольская. Она дернула плечиком, и снова по халатику забегали мужчины-атлеты. — Только что же писать?
— Пиши просто: «Здравствуй, Миша…», — Галина Ивановна не закончила, над дверью робко вздрогнул звонок.
— Ну вот, так и знала! — возмутилась Лариса Киприановна. — Поговорить не дадут. Вечно к тебе соседи отовсюду!
Она выскочила в переднюю, щелкнула замком.
— Кажется, к тебе, Галочка…, — пропел ее растерянный голос.
Ракитина поднялась из кресла.
В передней смущенно топтался высокий пожилой мужчина. Последние струйки дождя весело сбегали по кургузенькому, явно с чужого плеча плащику, по фланелевой больничной пижаме, оставляя на полу лужи
— Галине Ивановне от имени и по поручению всего болеющего коллектива! — Пророкотал он торжественно и распахнул плащик. Стрелы ранних гладиолусов полыхнули ало-белым пламенем.
— Алексей Иванович! По такой погоде! Вы с ума сошли вместе с вашим радикулитом! — воскликнула Ракитина. — Лариса Киприановна, дайте ему тапочки, а я сейчас найду что‑нибудь сухое!
Она метнулась в комнату. Над дверью опять встрепенулся звонок. Потом еще…
— Галина Ивановна! — услышала Ракитина знакомые голоса. — Несите все, что есть в доме сухого! Ох, и пир закатим!
Она посмотрела на окно. Умиротворенно погромыхивая, скатывалась гроза. За стеклом звенел ветер, совсем майский ветер.
Анатолий Столяров,
Член союза писателей России











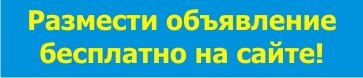
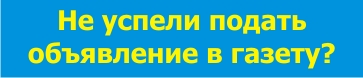
 Троицкая афиша
Троицкая афиша



